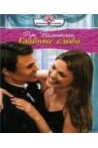Харитон сидел на кромке крапивной ямы и отрывал репейные шишки, прицепившиеся к штанам. Молодые, охваченные свежим дымком, шишки отцеплялись легко, а вот прошлогодние, жестко-сухие, зло держались и, цепкие, колючие, насквозь взяли одежду, жгли, зудили тело. Харитон терпеливо выбирал остья, сдувал их с ладони, а думал о своем.
Вчера по делу Федота Кадушкина в Устойное приехал следователь Жигальников, совсем еще молодой человек, и потому строго скупой на слово, в больших роговых очках, делавших его недоступным. Узнав, что подсудимый Кадушкин слег, не поверил этому и сам наведался к нему в дом. Сомнений не могло быть: Кадушкин был серьезно болен. Всегда черный лицом от снегов, ветров и солнца, Федот Федотыч сделался немощным и белым, будто его вымочили и отбелили. В длинном и без того худом лице совсем не было жизни — только стекленели глаза, будто в последнем ослабевающем напряжении. Жигальников, вернувшись в сельский Совет, распорядился призвать в качестве ответчика младшего Кадушкина, так как из хозяйства он не выделен, а разбирательство должно было кончиться всего лишь некрупным материальным возмещением и внушением.
Нашли Харитона и вызвали к Жигальникову, который за холодными очками, нездешний и враждебный, в сердито-краткой форме изложил вину Федота Федотыча Кадушкина.
— Учтя вышепоименованное и положение вашего отца, — говорил Жигальников, — исполнение решения перекладывается на вас, Харитон Федотыч Кадушкин. Исполнение решения строго обязательно, и не советую вам уклоняться.
— Значит, батя изрубил эту доску, а отвечать мне?
— Вы живете одним хозяйством, а ваш батюшка не сегодня-завтра прикажет долго жить — с кого же спрашивать, как не с вас? Я слышал, что вы решили порвать с хозяйством отца? Похвально, молодой человек. Но подтвердите это письменно, и мы оставим вас в покое.
— Я отойду, сестра будет в ответе.
— А вы бы как думали? В вашем хозяйстве есть излишки хлеба, и если не вы, то ваша сестра должна сдать их.
— Нет, что уж там, а дело это недопустимое. Отвечать, так отвечать мне.
— Это как вам будет угодно, но хлеб надо сдать.
Минувшую ночь Харитон почти не сомкнул глаз. На сеновале, где он спал, было душно от свежего сена. После жаркого дня ночь никак не могла остыть, и остро пахло смоленой крышей. В конуре рядом с сараем все время чесался кобель Хитрый и часто-часто бил локотком лапы в стенку конуры. В полночь Зимогор Влас, скрипя петлями сенных дверей, выходил на крылечко и с высоты со звоном поливал на железное ведро. Потом под жердяным настилом на шесте начал кричать петух: прокукарекает и как бы, хрипя и булькая, утягивает в себя недопетое.
Харитон не томился бессонницей, но чувствовал себя уставшим от тяжелых мыслей. Ему и жалко отца, и зло на него накипает на сердце: лежит при смерти, а видеть его, Харитона, не пожелал. «Но нету моей вины перед ним. Не хапал бы, не жадничал, и жить бы ему да жить. Умрет — все хозяйство урежу». Разбудила его сестра Любава с заплаканным и некрасиво длинным лицом.
— Как уж ты, Харитоша, ушел и ушел… Тятенька помирает совсем. Послал за тобой.
— Меня сегодня в Совет за него… Приехал там какой-то.
— Ты не обижай его. Грех вам сердиться друг на друга — родные. Жил вот он, жил…
Она заплакала, нос у нее сразу сделался мокрым и красным.
— Что ж теперь, — сказал Харитон, застегивая ворот рубахи, и долго искал пальцами оторвавшуюся пуговицу. Любава заметила это:
— И ты как сирота. Что это у нас происходит?
— Ты иди, Любава. Я вот умоюсь и приду. Скажи, что приду.
Любава ушла. А Харитон, умывшись у колодца прямо из черпуги холодной водой, написал Дуняше записку, а вскоре и сам задворьями пошел к ней.
— Как воры мы, боже милостивый, — зашептала Дуняша, садясь рядом с Харитоном и вглядываясь в его глаза: — С собой, никак, звать собрался?
— Звать, Дуня.
— А я-то как, Харитоша? — у Дуни враз высохли губы, она заперебирала ими, а уширенное в скулах лицо ее, по-детски возбужденное тайной встречей, вдруг переменилось и стало сумрачным, строго-замкнутым: — А я-то как же?
— Иди надень все свое лучшее и приходи сюда. Пойдем к бате. Он велел. Плох он совсем, сказывает Любава. Иди да скорей.
— А как же я тайком-то из дома, Харитоша? Время-то какое! Жнитво. Страда. Скотина. Как они одни-то?
— Тебе скотина или судьба своя, что дороже-то?
— Я сейчас, Харитоша. Я сейчас. Боже мой, да что это я? — Лицо ее совсем неуловимо сделалось опять детски простым и вопросительным. Он привлек ее к себе и поцеловал в открытые словно в жару губы. Сознавая всю ее доверчивость и переживая к ней нежную жалость, он вдруг впервые почувствовал ответственность за нее, свою безграничную власть над нею, и то, что твердо решил сделать, казалось ему единственно правильным.
— Ступай, Дуняша. Только так и только теперь. Я жду.
Аркадий еще на рассвете уехал глядеть хлеба, а мать Катерина ловила перед окнами на траве канавы молодых гусей и пятнала им белые хрустящие перья желтым отваром из луковой шелухи. Гуси кричали, разбегались, махая крыльями, а мать Катерина неловко грабастала их, да все мимо, мимо, а поймав, безжалостно мяла, стукала по желтому клюву своим сухим пальцем.
Дуняша собралась в один миг, потому что с памятью прибирала всякую вещицу и теперь твердо знала, что и где взять. Уже спускаясь с крыльца, с ненавистью к себе подумала: «Все приготовила, все запомнила — помани только. Паршивка. Паршивка. Нет тебе и не будет прощения во веки веков. Но одумайся. На что решилась? Не поздно еще. Вернись! Вернусь. Не оставлю я их. Вернусь. Харитону скажу, что нельзя так из родного дома. Ах, мерзость-то какая!»
Ругая себя, раскаиваясь, она все-таки шла к Харитону и знала, что назад не вернется, потому что он был ей родней брата и матери, и воли, власти его хотелось больше всего на свете.
За огородами на траве Дуняша надела свои ботинки и сразу сделалась выше, подобранней и, терзаясь совестью, забыла оглянуться на крышу родного дома, на свой огород, где остался труд всех ее осознанных лет. По проулочку с одноколейной дорогой, в лебеде и крапиве, густо усыпанной гусиным пометом, они вышли на главную улицу. Бабы у колодцев и дворов провожали их завистливо и злорадно, угадав всю их тайну.
— Вот оно, новое-то заведенье: отец крышку гроба придерживает, а сынок за свое.
— А она-то, она-то, гля, из чего завелась только!
— Убегом взял. Вот и смотри, тихоня да тихоня.
— Ну, братец. Аркашка доберется: он ее варавиной обвенчает.
— Ай, молодцы.
— В страду зазудело, срамотишша.
— Подавитесь вы, бабы: верно девка сделала.
Харитон шел серединой дороги и держал в своем кулаке потную и горячую от волнения руку Дуняши. Она несколько раз хотела отнять у него свою руку, но он до боли сжимал ее и не отпускал. Дуняша не слышала бабьих речей, но догадывалась, что ее бранят и поносят, и готова была провалиться сквозь землю от стыда и боязни, однако в ответном вызывающе мстительном чувстве не опускала голову и была признательна Харитону, что он вел ее открыто, не торопя.
В доме Кадушкиных, хоть и болел хозяин, все шло своим строго заведенным порядком. Была раным-рано управлена скотина, и коровы вместе с прилизанными телятами и овцами — всего около десяти голов — ушли в стадо. Своим голодным нетерпеливым ревом они подняли и свиней — те забились в клетушках, запросились на волю, на травку, на солнце. Машка выгнала за ворота всю эту ревущую ораву, но кабаны, послонявшись возле огородов, вернулись и начали торкаться в ворота, пронзительно визжа и хрюкая. Они бы во весь день не дали покоя, но горячее солнце заставило их убраться в крапивник и репейные лопухи, разросшиеся на задах за амбарами.
После приборки конюшен, двора и дома, когда утренней свежестью дышат вымытые полы и мостки, когда первый ветерок выдувает в открытые окна шторки, Любава, Машка и Титушко сидели за ранним чаем внизу, в кухне. Медный, в зеленых натеках и белой накипи, самовар пыжился и урчал угодливым разогретым нутром. В трубе его под колпачком глохли угли и что-то тонко пищало, а решетка понизу все еще весело горела и даже постреливала искорьем. На середине стола, рядом с самоваром, стояла деревянная чашка с медом и тоже деревянные облинявшие ложки были опрокинуты на край чашки. В кухне густо и чадно мешались запахи свежего хлеба, вареной и подгоревшей картошки, парного пойла, молодой опары, раскаленного пода печи. Хлебная духовитость щедро опахнула полнотой жизни не только весь дом, с его бесчисленными кладовками, закутками, углами, но и двор, и огород, и даже дорогу перед окнами. Кто ни проходил мимо, тот и знал, что у Кадушкиных «вынают» хлеб.