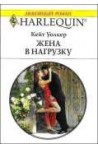— Везут?
— По обложению вывезли-де свою норму с осени — и шабаш.
— А что Совет?
— Подождем вот, да надо что-то делать. А что именно, никто не знает.
— Знаем, Яков Назарыч. Как не знать. Область предписывает брать хлеб у имущих.
— Это у каких таких имущих, Семен Григорьевич?
— У запасливых.
— Замки, что ли, сбивать?
— Кто говорит, сбивать. Кто навесил, тот и отомкнет. Я думаю, о сбивании, Яков Назарыч, нынче, слава богу, и говорить не станем. За тем, полагаю, и едем, что нам разъяснят разумные пути заготовок хлеба в дальнейшем. Именно сейчас это нужно, а то кое-где горячие головы уже берутся за чужие запоры. В Знаменке, говорят, дело до топоров дошло. Вроде местные власти своевольничают, а мужики осаживать их. Сегодня вот утром приходил начальник милиции и рассказал, что в Жукино просто чудом председателя не застрелили. Не помню, кто у них там в председателях-то?
— Пивородов, Макар. Вместе в армию призывались.
— Так пришел этот Пивородов к мужику, хозяину, и наган на него: открывай амбары. А тот, не будь плох, вырвал у него наган и давай палить.
— Да — вот сунься к нашим Окладниковым, и, ей-богу, такой же оборот выйдет. А Мошкин одно требует: выявлять излишки хлеба и чтоб сами хозяева везли на сдачу. А как их определишь, эти излишки, по чужим сусекам? Хорошо, мы кое у кого из своих взяли на учет хлеб при обмолоте. Тут все налицо. Но мало сказать тому же нашему Доглядову, что у него лишка хлеба запасено. А как ты его заставишь везти эти лишки?
— Вот, Яков Назарыч, за тем, должно, и едем, чтобы не наплести лаптей в этом важном деле, не кидаться на людей с наганами, а чинно и уважительно говорить с хлеборобом, чтобы он нынче сдал хлеб государству и на будущий бы год сам душевно разика в три поболе свез.
«Такие, как Кадушкин, в десять раз больше дадут, только не препятствуй ему раздувать хозяйство», — мысленно возразил Яков Назарыч, но вслух свою мысль не высказал, зная, что Семен Григорьевич Оглоблин мироволит Кадушкину.
— Иди-ко, Яков Назарыч, обедай, да и поедем, чтоб успеть к раннему новосибирскому.
Было едва за полдень, когда из ворот исполкома выехали две легкие кошевки; в передней — сидели Оглоблин и Умнов, на вожжах, а в задней — заготовитель Мошкин, в суконной фуражке, и кучер, который со станции погонит порожняк обратно.
Январское солнце в красном отеке шло к раннему закату и не давало тени. Снега на обдутых взлобках тускло светились старой бронзой, которая, стекая в запади и низинки, густо чернела. Слабый ветер не продувал исполкомовских тулупов, но студил бока, дребезжал в старых телеграфных столбах, мотал пучки соломы на придорожных вехах. Зимняя колея была накатана по увалам, и в гору Оглоблин с Умновым сбрасывали с плеч тулупы, бежали рядом с кошевой; задетые морозом ноги постепенно отходили, начинали гореть, и, казалось, бежал бы до самой станции, разогретый и легкий, но наверху лошадь брала крупной рысью, и падали в кошевку, лезли в тулупы с промороженным мехом. Под изволок санки со стуком падали в твердые ухабы, скребя подрезами колею, выныривали наверх и опять падали. Сытые кони не любили спускать упряжку на шлеях и быстро выносили до нового увала. Если Умнов придерживал вожжи на раскатах, то задняя лошадь грудью налегала на его сани и жарко дышала в тулупные воротники седоков; бывало, что с морды ее срывалась пена, домовито пахнущая теплым овсом. Навстречу шли обозы, груженые и заиндевелые. Мужики, низко подпоясанные по кострецам, а иногда и в длиннополых тулупах терпеливо шагали за возами по двое, по трое, курили. Замученно и безысходно глядели они из-под своих треухов и ожесточенно матерились на спусках, потому что тяжелые возы вместе с лошадьми несло книзу, и долго ли тут опрокинуть поклажу, изорвать завертки, а то и завалить лошадь.
За большим и глухим бором выехали к Туре, и дорога раздвоилась. Надо было спрашивать, каким повертком надежнее и скорее попасть на станцию.
— Рекой много ближе, — сказал исполкомовский кучер, едва разлепив мерзлые губы. — Ближе-то ближе, да не влопаться бы в полынью.
С реки поднималась порожняя подвода. Молодой, красный от ветра парень стоял в санях на коленях и крутил концами вожжей, торопил сытую лошадь. Умнов собрался спросить у него дорогу, но парень, пугаясь чужих людей, свернул по насту и стал объезжать росстань.
— Да ты постой, — закричал Умнов. — Слышь, постой, говорю. На Талицу как ближей-то?
— Прямотка, — махнул парень неопределенно и пустил лошадь вскачь, напугав ее блажным криком: — Грабют!
— Бестолочь, — выругался Умнов, сел в кошевку: — Поедем верхом. Береженого бог бережет.
К ночи стало круто намораживать. Кони подбились. К станции подъехали шагом. Кучер остался кормить лошадей, а Оглоблин, Умнов и Мошкин пошли в кассу. Билеты купили сразу, и так как до поезда было еще время, направились в буфет. На высоких дверях буфета была прибита растянувшаяся пружина, которая скрипела и мешала плотно прикрывать дверь. Над столами висел солоделый пар. За стойкой торговали хлебной водкой и солеными сухариками под пиво.
Заготовитель Мошкин, без того тощий и чернявый, совсем обвял и почернел на морозе в своей суконной фуражке с суконными же клапанами для ушей. Он взял стакан водки и опрокинул его тут же у стойки, ничем не закусив. Оглоблин и Умнов заказали супу и чайник чаю. То и другое было с огня, и они скоро согрелись. А Мошкин все мерз и мерз, ужимал свои покатые плечи под легким пальтецом. Фуражку не снимал.
— Это вот думай, так не додумаешься, — сказал Оглоблин, вытирая отпотевший загривок платком. — По такой стуже, и ну — в одной фуражечке.
— Не впервой, Семен Григорьевич. Я на забайкальских ветрах прокален. Разве это морозы. Там, бывало, плюнешь, и наземь ледышка.
— Вроде и мороз не мороз, а зуб на зуб не попадает.
— Ничего, ничего, — мрачно храбрился Мошкин. — Я привычен. Согреюсь. Вот плесну еще на каменку, и зашипит.
Он сходил к стойке и еще принес стакан водки. Выпил с прежним подсосом. Стал закусывать домашней колбасой, от которой шел острый запах чеснока и дыма.
— Вроде бы как Иисус Христос по душе-то того… — невесело пошутил Мошкин и, расстегнув пальто, стал гладить себя по груди хрупкой смуглой рукою. Глаза у него заблестели теплой влагой, по-живому зарумянилась кожа на скулах: — Надо только свою линию налива знать. Стакан поднял — мало. Чувствую всеми фибрами — мало, значит, не отказывай. Скоро согреемся. Жарко станет. Вот расшевелим кулацкий припасец, и зима нам нипочем, — вроде бы и о тепле и вместе с тем совсем отвлеченно сказал Мошкин и стал щелкать ногтями по столу.
Семен Григорьевич подумал, что заготовитель опьянел, выпив на голодное два стакана водки, и заговаривается, но, выследив трезвый взгляд Мошкина, увидел на стене большой плакат: по полю с двухлемешным плугом шел весь красный трактор, а щетинистый и толстобрюхий человек с мешком за спиной, на котором было написано «кулак», убегал прочь от трактора.
— Видишь, как подхватился — откуда прыть, — усмехнулся Оглоблин, кивнув на плакат.
— Это вредная бумага, — отмахнулся Мошкин и, обхватив смуглыми нервными руками кромки стола, начал трясти его: — Нашли забаву — мужик трактора испугался. Чушь на постном масле. Сам он не побежит. Не дождешься. Его выпахивать надо с частного надела. С корнем. На всю глубину.
— А вы, Борис Юрьевич, немного злитесь на мужика, если я не ошибаюсь? Отчего бы?
— Смею заверить вас, Семен Григорьевич, ни я, ни мои пращуры никогда не были крестьянами. Ни-ко-гда. Поэтому личных обид у меня на мужика быть не может. Какие у меня обиды? Откуда? Но эти частнособственнические тенденции мужика при нашей народной власти, извините, просто поперек горла нам, — Мошкин ребром ладони придавил узел галстука и, подняв брови, стал надвигаться на Оглоблина. — Вы мне скажите, кто им дал право, чтобы они морили голодом рабочий класс? Они почему гноят хлеб по ямам и валят скоту, а городу не дают?
Оглоблин развел руками и мягко попросил: