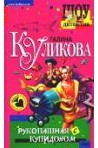Но не успела я еще вдоволь нареветься, не успели мы извести в буржуйке изрубленные няней стулья, как она явилась обратно, веселая, помолодевшая, с большим мешком на спине и с заявлением, что «жить на неге» у Васьки ей невмоготу, в то время как здесь ее «сродня» (то есть мы) «горе мыкает». В мешке оказалась картошка и пшеница, из которой няня тут же сварила очень хорошую кашу. Привезла она даже десяток яиц, и они были необыкновенно вкусные, гораздо вкуснее, чем до революции. Сама нянька яйца есть отказалась.
— Я у Васьки яишню ела и «самгон» пила, а эти яички я для вас, как для сродни везла. И точка, — сказала она.
Оживление няни еще объяснялось тем, что в Непрядве она просватала сыну Васе невесту.
— А хороша ли невеста, нянечка? — интересовался папа.
— Ох и хороша, барин, ох и хороша, хоть и перестарок, — нараспев отвечала няня. — Толще девки во всей округе не найдешь, на всем Куликове не сыщешь. Ножищи — во! Ручищи — во! Обширная девка, однова дыхнуть…
Вечером, сидя около печки, няня пригорюнилась: жалела сына Васю.
— Вот, Танечка, вы все у отца с матерью детки ровные, как ягодки, все из себя ладные, а Васька мой в четырнадцатом годе из войны вышел поврежденным на левую ногу и без отца рос. Отца-то деревом придушило. И рос он у меня без гнезда, как щегленок махонький, а я все по людям, все по людям.
— Нянечка, ты же не по людям, а у нас живешь!
— Эх, милок, а до вас-то я столько горя мыкала, не счесть моих кручиною. — Няня плакала.
Но долго пребывать в тоске няня не любила; поплакав, она начинала строить планы Васиной свадьбы, которая была не за горами, и в деревне Непрядве спешно готовились к торжеству.
Няня прожила у нас до нашего отъезда из Москвы. Денег ей, разумеется, уже никто не мог платить. И жила она на правах «сродни» — точнее говоря, самой главной в доме…
Иногда, мешая угли в печке-буржуйке, она вдруг задумывалась, принюхивалась к угару и проникновенно заявляла: «Сайгоном отдает, однова дыхнуть, на Куликовом его варють»! На Куликовом, может быть, его и варили, но у нас в Москве самогону не было, водки тоже не было, и стала наша няня трезвенницей. Не знаю, от свалившейся на нее добродетели или от голода, только ушел вместе с пьянством от няни удивительный ее сказочный дар. И Додон, наш с ней общий герой, видимо, переселился из Москвы в деревню Непрядву на Куликовом поле. Нас он покинул. А может быть, просто мы стали старше?..
После революции Первую московскую мужскую гимназию слили с Мариинским женским институтом и в ней стали учиться мальчики с девочками вместе. Гимназию Констан закрыли. И наша Нина стала теперь учиться в Первой мужской гимназии. Вот потеха-то! А я уже нигде не училась. Меня ни с кем не слили, и я осталась без места. Нину-то папа принял в мужскую гимназию, а меня — нет.
К этому времени нашего отца выбрали председателем школьного совета, и он стал получать на большой перемене в гимназии какой-то не то суп, не то кулеш. А весной 1918 года всем преподавателям Первой гимназии дали маленькие участки земли на «Зеленом дворе»…
Лето 18-го года было томительное. В Москве душно и тяжко. На огороде у нас, кроме редиски, ничего не выросло: отец был человек больной и копать не мог, Володя уехал на Западный фронт, мама занята, няня стара, я мала, Нина, правда, что-то ковыряла, но из этого ковырянья получился небогатый урожай.
Помню, как приехал в Москву в отпуск (или в командировку?) повзрослевший, грязный и веселый брат Володя. Он привез два каравая хлеба нам в подарок. Караваи эти очень выручили нашу семью. Были они круглые: четверти две в диаметре. Сверху сероватые, а с боков темно-коричневые, почти черные. У одного хлеба бок был треснут — от жара печки — и корочка на трещине обгорела и обуглилась. Оба каравая были довольно низкие (в центре не выше ладони, поставленной ребром), а к их дну припеклись кленовые листья, пожелтевшие и подгоревшие. (В тех местах, из которых приехал Володя, хлеб пекли на кленовых листьях.) Черствый, плотный, совсем без пор, немного сыроватый, посыпанный сверху тмином, хлеб этот был восхитительно вкусный. Больше половины века прошло с моей встречи с этим хлебом, но я отчетливо помню его вид, вкус и запах.
1919 год
Лето жаркое, зима холодная, и то и другое голодное и скучное. Что-то разладилось в жизни, а новое еще не наладилось.
В конце зимы 1919 года мне стало известно, что отец хочет организовать загородную сельскохозяйственную школу или, как тогда называли, детскую колонию. В эту колонию зачислят неимущих и голодных детей из Первой гимназии в возрасте 15–16 лет. Они научатся работать в поле, на скотном дворе, в огороде и вообще выучат всю сельскохозяйственную работу и будут сами себя обслуживать, а педагоги будут их учить (как учили бы в нормальной школе) разным предметам.
Было уже определено, где будет колония. В четырнадцати верстах от Загорска (тогда он назывался Сергиев Посад) находилось чье-то бывшее имение. В барском доме расположился туберкулезный санаторий, снабжавшийся из Москвы, а службы: скотный двор, молочная, овин, небольшой дом с мезонином (предназначенный в прошлой жизни для рабочих), молотилка, сарай и баня, а также земельные угодья — все это отдавалось в собственность колонии, то есть 8-й сельскохозяйственной загородной школе второй ступени.
Опыта в организации таких школ не было. Особенно трудно было с преподавателями. Старые, дореволюционные учителя не соглашались ехать вместе с папой в деревню, в неизвестность, новые учителя еще не народились, а весна приближалась, и отец заметно волновался. Ведь нужно было обработать огород, посеять зерновые культуры и обеспечить всех детей едой на следующий год. Нужно было достать кровати, матрасы, подушки, одеяла, лекарства, книги, миски, ложки, вилки, одежду, семена, мыло, керосин и так далее. А папа был один. И все-таки он принял решение ехать в колонию с голодными детьми, надеясь, что за лето ему удастся найти преподавателей, тем более что в готовую, оборудованную и налаженную школу люди поедут скорее и охотнее.
Мы должны были ехать вчетвером — папа заведующим, мама — зав. хозяйством, педагогом и лекарем. Нина ученицей, а я, сбоку припека, неизвестно при ком — при папе или при маме, или при колонии.
Совершенно не помню ни подготовки, ни переезда, ни поезда. Но если очень прищурить память, то вдалеке, в каком-то тумане времени, встает почти обесцвеченная картина: довольно большая группа — даже толпа — мальчиков и девочек стоит на фоне какого-то здания. Под ногами у них не земля, а булыжная мостовая. Жарко. Пыльно. Печет солнце. Все эти подростки держат в руках какие-то вещи. У них одно общее усталое лицо, они похожи не то на пленных, не то на новобранцев. И среди них папа (тоже худой и усталый) с тетрадкой в руках. Он кого-то выкликает, кого-то пересчитывает, что-то отмечает в тетрадке. А я волнуюсь о нем: зачем он стоит на солнце без шляпы, ему же нельзя этого делать, он же больной. Вот и все, что помню…
А потом уже сразу — как в воду с разбега — Сергиево-Игрищево. И колония.
Тут уж ничего нельзя описать — это было не впечатление, а ошеломление. Вся природа вокруг меня — и вся моя! Ни на дачу в Оболенское, ни гулять на скверы к Храму Христа Спасителя, а тут она, эта природа, рядом: во рту, в ушах, в носу, в глазах! Каждый день, каждый час, каждую минуту! Ногами, руками, зубами чувствовала я ее. В дождь и в ведро, зимой и летом, весной и осенью! То, что было раньше лакомством — третьим блюдом, стало повседневностью: земля под босыми ногами каждый день, а не после дождя с маминого разрешения; теплый бок лошади, а не угощение ее сахаром с руки; на лыжах без палок по насту до Новоселок в рваных валенках с босой пяткой, а не катанье с горы на шведских санках. Купаться в дождь. Как собака, по запаху узнавать, где есть грибы. Копать картошку по щиколотку в грязи. Зимой с горы на розвальнях, без лошади. В грозу бегать в поле под ливнем… Объедение, обжирание природой. Не любование, а полное соединение с ней…