 42
42 
— Опять почему-то мне дали котлеты. Я терпеть не могу котлет, говорила она, морща нос и делая смешную гримасу. — Скушай, пожалуйста, а то придется выбросить!
Котлеты были жесткие, сухие, с примесью едкого перца, но я съедал их с большим удовольствием — нужно же было выручить бедную Леку, и, кроме того, аппетит у меня в ту пору дошел до обжорства, должно быть потому, что в последние месяцы я рос с необычайной быстротой. Гимназическая моя куртка (из материи „маренго“) стала как-то сразу тесна и узка. К счастью, в конце лета я мог наконец сбросить с себя эту куртку и купить в магазине Ландесмана отличный шевиотовый костюм на скопленные пятнадцать рублей.
Я забыл сказать, что, еще в те времена, когда я работал на крыше, я как-то, возвращаясь домой, увидел издали Риту Вадзинскую.
Сразу меня как кипятком окатил тот восторг, который всякий раз налетал на меня, когда она возникала предо мною на улице,
- Как мимолетное виденье,
- Как гений чистой красоты.
Теперь она стояла с подругой у кадки мороженщика. Тот только что снял с головы эту тяжелую кадку, обмотанную белым грязноватым холстом, и стал добывать из ее глубины холодные золотистые шарики „сливочного“. Проходя мимо Риты, я от прилива любви и застенчивости сгорбился еще сильнее, чем всегда. И вдруг случилась страшная вещь: не прошел я и двух шагов, как Рита громко засмеялась и сказала мне вслед:
— Боже, какой антипат!
А её подруга проговорила насмешливо:
— Был гимназистом, а стал трубочистом!
Эти слова ошеломили меня. Я не поверил ушам. Я готов был заплакать от горя. И не только потому, что Рита оскорбила меня, а и потому, главным образом, что она оказалась такая пошлая, дрянная девчонка!
„Антипат“! Существует ли на свете более безобразное, более вульгарное слово! И эту-то кривляку я принял за Аннабель Ли! Ей я посвятил мою „Гимназиаду“!
- Зачем не мог я прежде видеть?
- Её не стоило любить,
- Её не стоит ненавидеть,
- О ней не стоит говорить!
Впрочем, не успел я повернуть на свою улицу, как мое горе уже совершенно рассеялось и сменилось необузданной радостью.
Словно я освободился от каких-то сетей, опутывавших меня по рукам и ногам.
Особенно же я был рад потому, что теперь наконец-то мне открылась возможность влюбиться в милую Леку Курындину, которая, я уверен, никогда, ни при каких обстоятельствах не могла ввести в свою речь такое мерзкое слово, как „антипат“!
В звуках трубы усача Симоненко мне в этот вечер послышалось столько праздничного веселья и радости, что я чуть не затанцевал на железном листе, прикрывающем нашу помойку.
Глава двадцать первая
Всё разлетается в прах!
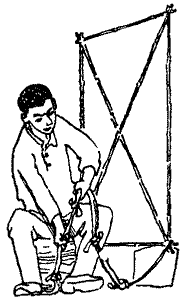
Пожалуйста, не думайте, что с этой минуты все в моей жизни пошло благополучно и гладко.
Ничуть не бывало. Через год у меня появился злейший, коварнейший враг, который чуть было не разрушил все мои планы и замыслы.
Этим врагом был я сам.
Правда, на первых порах я учился усердно: всю премудрость шестого класса одолел настойчивым трудом. Но через год, когда мне предстояло с таким же упорством овладеть программой семиклассников, на меня вдруг напала непреодолимая лень. Словно дьявол вселился в меня. Я забросил учебники, разошелся с Тимошей и, хотя хорошо сознавал, что каждый день моей праздности ведет меня к верной погибели, ничего не мог поделать с собою и в конце концов стал отъявленным лодырем.
То была самая постыдная полоса моей жизни.
Началась она очень невинно — с увлечения Уточкиным.
Уточкин в то время еще не был прославленным летчиком, да и самолетов тогда еще не было.
Молодой, по-молодому веселый, он тогда лишь начинал свою карьеру как чемпион велосипедного спорта, и не существовало на свете такого гонщика — ни иностранца, ни русского, который мог бы хоть раз обогнать его на нашем городском циклодроме.
Если бы мне в ту пору сказали, что в мировой истории были герои, более достойные поклонения и славы, я счел бы это клеветою на Уточкина. Целыми часами просиживал я вместе с другими мальчишками под палящим солнцем верхом на высоком заборе, окружавшем тогда циклодром, чтобы в конце концов своими глазами увидеть, как Уточкин на какой-нибудь тридцатой версте вдруг пригнется к рулю и вырвется вихрем вперед, оставляя далеко позади одного за другим всех своих злополучных соперников — и Богомазова, и Шапошникова, и Луи Першерона, и Фридриха Блитца, и Захара Копейкина, — под неистовые крики толпы, которая радовалась его победе, как собственной.
 42
42 

