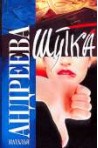124
124 
Мой Марицкий пришел в восторг. Все они, интеллигенты, мечтали быть борцами с режимом, мечтали сделать советской власти козью морду. Только не у всех получалось – кишка была тонка, и жалко потерять жалкие свои паечки и привилегии.
У Артемия его маленький бунт получился. Он действовал не спеша. С оглядками и проверками вышел на нужного человека, заплатил пятьсот рублей (моих!), всего лишь за консультацию, прогулку со специалистом под ручку по набережной, а потом объявил мне: «Пишешь заявление об утере паспорта на чужую фамилию, разумеется, – он тебе делает новый, такса три тысячи рублей, а потом ты должна будешь сразу выйти замуж».
Я не знала, придумал ли он насчет замужества, или паспортист и вправду это посоветовал, и спросила весело:
– Замуж? А за кого, он сказал?
– За меня, разумеется!
Вот так в августе восемьдесят четвертого я стала жительницей города Н. Марией Ивановной Марицкой, год рождения – шестьдесят первый, место рождения – Москва… А прописали меня в квартиру свекрови, матери Артемия, где был зарегистрирован и он сам…
1993, ноябрь
Мария Марицкая (Наташа Рыжова)
Все то время, пока я скрывалась, знаете, что было для меня самым тяжелым?
Не видеться, не говорить с мамулей и бабушкой. И даже не знать, как они, что они? Здоровы ли, живы, счастливы?
Я легко рассталась со всем остальным. С Москвой. С моим образованием и профессией. С друзьями. Даже с Ванечкой. Но вот с ними, моими родными… Я десятки раз хотела наплевать на конспирацию – позвонить, написать, броситься туда, в мой любимый З***… Но каждый раз чувство самосохранения оказывалось сильнее. Я вспоминала жуткие звуки и запахи тюрьмы, лязг засовов, лай надзирательниц, вонищу сокамерниц. И – грозящее лишение свободы – не на месяцы, на годы… И я уговаривала себя: потерпи…
И только в девяносто третьем, после второго путча, в эйфории от безбрежной демократии, когда в голодной стране многим казалось – теперь можно все, я вдруг поняла, что могу выйти из тени.
Я пошла на почтамт – нет, нет, звонить из дому – ненужный риск – и заказала разговор на номер, что помнила наизусть: рабочий телефон моей мамочки.
С замиранием сердца спросила:
– Можно Алевтину Яковлевну?
– Кто ее спрашивает? – нахмурился голос на другом конце провода: кажется, ту мамину сослуживицу звали Алена Павловна.
– Это ее родственница из Ростова-на-Дону. – У нас и вправду были дальние родственники в столице донского края, отношений мы с ними почти не поддерживали, редко-редко – открытка на Первое мая, Седьмое ноября… Алена Павловна, похоже, мне поверила, хоть я начала здесь, в Н., по-волжски окать, а не по-южному «гэкать».
И тогда грянул ответ – словно гром, словно смертельная печать из разверзшихся небес:
– Алевтина Яковлевна скончалась.
Еще не веря до конца, я вскрикнула:
– Как? Когда?
– Почти два года назад. Скоропостижно. Инсульт.
А потом, цепляясь, как за соломинку, я спросила-прошептала:
– А бабушка? Василиса Георгиевна? Как она?
– О, она умерла еще раньше. Лет шесть назад. Кажется, в восемьдесят седьмом.
Вот и все. Моя московская жизнь закончилась.
Я, как мне сейчас кажется, проревела непрерывно целый месяц…
И вообще те годы, девяносто первый – девяносто третий, годы свободы и реформ – были самым гнусным временем в моей новой жизни.
Начать с того, что в восемьдесят шестом я родила… Дашенька, радость моя, кровиночка…
Нет, начать надо, наверно, с другого: мы с Марицким все-таки не любили друг друга. Я уважала его: за положение в обществе, представительность, галантность, остроумие, умение зарабатывать и доставать. Но не было той сумасшедшей любви, как с Ванечкой, той странной химии, когда от одного вида и запаха холодеют руки и подгибаются коленки, когда ничего не существует, кроме НЕГО. Я часто бывала с Артемием холодна, презрительна, высокомерна; и много, даже, возможно, чрезмерно, занималась Дашенькой – в ущерб ему и нашим с ним отношениям. А он – мне в пику, что ли? – полюбил встречаться со своей дочкой от первого брака…
И параллельно развивалась тема под названием: «А давай уедем!» Главным ее пропагандистом и агитатором был Артем. «Ничего здесь, в Союзе, хорошего нет и не будет, мыслимое ли дело – за куриными яйцами по пять часов в очереди стоять, и свободы не будет, это временно клапана открыли, пар выпустить, надо поскорее делать ноги, пока Горбачева не сняли и границы опять не закрыли…» И откуда-то появилась даже нужная бабушка и дальние родственники, которые там встретят и помогут на первых порах… Я была против – категорически. Мне было достаточно перемен в моей жизни. Двадцать один год я прожила отличницей и комсомолкой, потом стала заключенной. Затем – воровкой, поджигательницей, разбойницей. Потом – беглянкой от правосудия. Я пока не насладилась ролью провинциальной жены и матери. Я не хотела уезжать из этого города на крутом обрыве над рекой, который за его просторы и неторопливость полюбила уже, кажется, больше, чем Москву и свой родной З***. А кроме того, я считала (и, наверное, не без оснований), что, когда мне станут оформлять для отъезда загранпаспорт, проверка будет серьезнее, чем в подкупленном паспортном столе, и меня выведут-таки на чистую воду.
 124
124