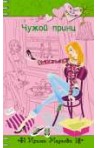54
54 
– Тише, матушка! – в ужасе упрашивает Даша. – Услышат же!
– Пусть слышат, меня Бог защитит! – бредит та, вырываясь из слабых рук дочери. – И тебя он защитит – Бог да Пресвятая Богородица! Молись, дочка, молись за царя Ивана, потому – нет участи ужаснее той, что он себе своими делами на том свете заслужил!
Выкрикнув последние слова с настоящим исступлением, она вновь теряет силы и безжизненно застывает на голых досках, служащих ей постелью. Даша вытирает слезы и оглядывается. Ей кажется, что в дверном проеме мелькнула черная тень. Девушка робко вглядывается, но ничего не различает. Материны припадки, во время которых та кликушествовала, обвиняя царя Ивана, могут стоить жизни им обеим – не взяли бы в расчет даже того, что царя ругает умирающая. Фуникова временами впадала как бы в безумие и страшно пугала дочь, которую незадолго до того заботливо наставляла и учила смирению.
– Кто здесь с тобой? – шепчет женщина, придя в себя.
– Никого, матушка. Водицы испили бы? – Даша берет с окна липовый ковшик и поит мать. Та пьет неохотно, большая часть воды льется на грубый ворот ее рясы. Рясу накинули на нее уже в монастыре, сняв с телеги, а так всю дорогу везли нагой – на позорище всем прохожим. Даша пока в своем домашнем сарафане, грязном и разорванном на груди, с осыпавшейся вышивкой по вороту мелким речным жемчугом. Мать скользит по жемчугу тускнеющим взглядом:
– Такие ли уборы я тебе в приданое готовила? В золото одеть хотела, лалами разубрать индийскими… Одна ведь ты у меня! Под пыткой не сказала бы, где приданое твое, под последней, страшной пыткой! – Ее искусанные в муках губы судорожно кривятся. – Копила, самое лучшее, редкое отбирала! Хоронила, берегла! На что оно тебе теперь? Все твое приданое – ряска холщовая да вериги тяжелые… Меня о казне царской пытали да о краденом, что мой муж будто бы укрывал… А я о том не ведаю, мое дело бабье! Что же меня пытать, перед детищем родным позорить? Знала б – разве не сказала бы? Разве приняла бы муку такую? Да Господи!
Она прерывисто всхлипывает, Даша тоже потихоньку плачет – день расправы снова встает у нее перед глазами, как наяву.
– А приданое твое цело, – тихо говорит мать, глотая слезы. – И ты у меня цела покуда… Что это, как не Божий промысел? Может, еще и под венец честной пойдешь… Никто, как Бог! Если приведется отсюдова выйти, ступай прямо в Александрову, сыщи наш дом да постарайся сундук-то твой достать! Где закопали его, я тебе сказывала, помнишь? То-то. От вора да и от пожара самое лучшее прятать – в землю. Не забудешь, где? Ты у меня памятливая… В меня пошла… Смотри, молчи про то – и за меньшее убивают! А про твое приданое прямо скажут – краденое, мол, Фуников нахитил казны государевой, свою дочку нарядить хотел… А у вора, мол, украсть сам Бог велел!
Вскоре мать забывается в горячем, мучительном бреду. Даша сидит рядом в тупом оцепенении. Голова ее пуста, сердце горестно сжимается. Думать ни о чем не хочется – все мысли ужасны. Она почти радуется приходу старой монахини и почтительно поднимается ей навстречу. Та с поджатыми губами оглядывает умирающую и что-то шамкает беззубым ртом.
– Что матушка? – робко вопрошает Даша.
– Отойдет к обедне, говорю. Пойду скличу сестер снаряжать ее. А ты прощайся пока. – Ее цепкий взгляд скользит по Даше внимательно и неласково. Она как будто хочет что-то прибавить, но тут же крепко смыкает морщинистые губы, будто запирает их на замок.
Черная тень исчезает в дверном проеме, оставив после себя крепкий запах трапезной – кислых щей и ладана, а Даша склоняется над матерью, трепетно ожидая, что та очнется и еще поговорит с нею. Но та уже и не бредит, и ее застывшее исхудавшее лицо кажется вылепленным из темного воска.
Вдова-казначейша Фуникова-Курцова больше не приходила в себя. Она приняла «глухое» причастие и скончалась еще до того, как первый раз ударили к обедне.
Ночь вслед за ее кончиной Даша провела на полу, лежа крестом и молясь за упокой материной души. Монахиня была тут же и читала по покойной Фуниковой – невнятно и монотонно, изредка возвышая голос, но большей частью бормоча слова, которых плачущая Даша не понимала. Входили и выходили еще другие монахини, что-то делали у обряженного к погребению тела, зажигали новые свечи – Даша никого не замечала, ничего не слышала. Ее тело оцепенело от ледяного каменного холода, ей казалось, что кровь застыла в жилах, язык онемел и никогда уже не скажет ни слова. Никто из монахинь не сказал осиротевшей девушке ни единого утешительного слова, и дочь предателя-казначея горячо молила себе скорой смерти, позабыв и о прежней, легкой и богатой жизни, и о своем мечтанном женихе, и о завещанном матерью кладе, как о чем-то пустом и несуществующем. Наутро из кельи вынесли сразу два тела. Фуникову несли за ограду обители, где для нее уже была готова могила. В ограде, на освященной земле, таких опальных царь Иван хоронить запрещал. Дашу, в беспамятстве поднятую с пола, отнесли в другую келью, посуше и посветлее, где и оставили под присмотром старухи, навещавшей их с матерью в первые дни заточения. Несколько недель девушка бредила, не признавая свою сиделку, и была между жизнью и смертью, так что для нее уже назначили место рядом с матерью. Однако сильная молодая натура взяла верх над горячкой, и Даша медленно, будто неохотно поправилась. За время болезни у девушки выпали почти все ее роскошные волосы, так что при пострижении было срезано всего несколько жидких прядей. В монашестве ее нарекли Доридой.
 54
54