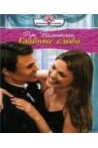124
124 
— Может, спустимся вниз и присоединимся к обществу? Для нас каждое ваше посещение — праздник.
Сэр Генри с усилием встает; он дороден, хотя ест только кашу и толченые овощи.
— Томас, как так случилось, что я состарился?
В гостиной разыгрывают спектакль: Рейф изображает Леонтину, все остальные покатываются со смеху. Не то чтобы мальчишки не поверили в историю про львицу, им просто хочется добавить в нее собственных красок. Ричард стоит на складном табурете и тихонько повизгивает, будто от страха. Кромвель решительно сдергивает мальчика за руку и говорит:
— Вы завидуете Тому Уайетту.
— Не сердитесь, хозяин! — Рейф, вновь обретя человеческую форму, плюхается на скамью. — Расскажите про Флоренцию. Что еще вы там делали, вы и Джованнино.
— Не знаю, стоит ли. Вы из этого тоже сделаете фарс.
Расскажите, расскажите, упрашивает дети, а Рейф вкрадчиво мурлычет.
Кромвель озирается по сторонам.
— А точно Зовите-меня-Ризли здесь нет? Ну… в свободные дни мы сносили дома.
— Сносили? — переспрашивает Генри Уайетт. — И как же?
— Взрывали. Конечно, с дозволения владельца. Если только дом был не совсем ветхий, не грозил рухнуть на прохожих. Деньги мы брали только за порох. Не за оценку состояния дома.
— Весьма основательную, надо думать?
— Куча возни ради удовольствия на несколько секунд. Впрочем, некоторые из ребят потом всерьез зарабатывали этим на хлеб, для нас же во Флоренции это была скорее забава, вроде рыбалки. По крайней мере, она не оставляла нам времени и желания бедокурить. — Он мнется. — Ну, почти не оставляла.
Ричард спрашивает:
— Зовите-меня рассказал Гардинеру? Про вашего купидона?
— А ты как думаешь?
Король сказал ему, я слышал, вы изготовили поддельную статую. Король смеялся, но, возможно, сделал для себя мысленно заметку; смеялся, потому что шутка против церковников, против кардиналов, а его величество сейчас расположен над ними шутить.
Секретарь Гардинер:
— Статуя, статут — невелика разница.
— В юриспруденции одна буква меняет все. Однако мои прецеденты не сфабрикованы.
— Просто излишне широко толкуются? — спрашивает Гардинер.
— Ваше величество, Констанцский собор даровал вашему предшественнику, Генриху V, такую власть над английской церковью, какой не получал еще ни один христианский монарх.
— Однако эта власть никогда не применялась, по крайней мере последовательно. Отчего так?
— Не знаю. По слабости?
— А теперь у нас более сильные советники?
— Более сильные короли, ваше величество.
За спиной у Генриха Гардинер корчит ему страшную рожу. Кромвель только что не хохочет вслух.
Год близится к концу. Приходите на скромный постный ужин, говорит Анна. Мы едим вилками.[53]
Он приходит, но общество ему не по вкусу. Анна завела себя комнатных собачек из числа королевских камергеров. Это Генри Норрис, Уильям Брертон, такого рода люди; здесь же, разумеется, ее брат, лорд Рочфорд. В их окружении Анна резка, с комплиментами разделывается безжалостно, словно хозяйка, сворачивающая шеи предназначенным на обед жаворонкам. Если отмеренная улыбка на миг сходит с ее лица, все они подаются вперед, готовые на что угодно, лишь бы угодить своей госпоже. Такого сборища глупцов еще поискать.
Сам он может быть где угодно, бывал где угодно. Воспитанный на застольных беседах в семействе Фрескобальди, в семействе Портинари, а позже — у кардинала, среди остроумцев и ученых, он вряд ли потеряет лицо в обществе ничтожеств, которыми окружила себя Анна. Видит Бог, эти джентльмены прилагают все усилия, чтобы он ощутил неловкость; он привносит уверенность, невозмутимость, язвительный стиль. Норрис, человек неглупый, да и давно уже не юнец, отупляет себя общением с подобными собеседниками, а зачем? Ради того, чтобы быть подле Анны. Это почти шутка; впрочем, шутка, которую никто не смеет повторить вслух.
В тот первый вечер Норрис провожает его до дверей, берет за рукав, останавливает.
— Вы правда этого не видите? В Анне?
Он мотает головой.
— И каков же ваш идеал? Пухленькая немочка из тех, что вы встречали за границей?
— Мой выбор никогда не совпадет с выбором короля.
— Если это совет, преподайте его сыну вашего друга Уайетта.
— Думаю, молодой Уайетт все просчитал. Том женат и говорит себе: муки сердца преврати в стихи. Разве мы не умнеем с годами, переходя от влюбленностей к истинной любви?
 124
124