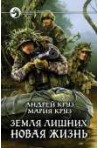216
216 
– Я обязательно приеду в Свердловск. В вашем городе расстреляли моего отца. Никаких концертов не будет. Скоро поеду в Новосибирск, в Академгородок – на обратном пути остановлюсь в Свердловске. Я тебе сообщу.
В конце марта 1964 года (Дагуров в воспоминаниях отнес эту встречу к октябрю по причине отвратительной погоды) Окуджава с Ольгой отправились в Свердловск. Для нее эта поездка тоже имела особый смысл – в свердловской эвакуации в 1943 году умер ее отец. Главред свердловской молодежки «На смену!» Феликс Овчаренко вместе с Дагуровым на редакционной «Волге» встречали их на вокзале. На Вознесенской Горке Дагуров показал гостю Ипатьевский дом.
– Что там сейчас? – спросил Окуджава.
– Он закрыт, никого не пускают.
– А где Серый дом? (так называли здание местного КГБ).
Окуджава попросил остановить «Волгу» напротив черных сплошных железных ворот и несколько минут стоял около них под дождем с непокрытой головой. Всю дорогу до дагуровского дома он молчал. В квартире несколько ожил и даже спел пародию на «Песню веселого солдата», которого Евтушенко для конспирации предложил переименовать в американского. Эту пародию сочинили на физфаке НГУ, Окуджава иногда пел ее на вечерах: «Загоним все народы в катакомбы и сбросим сверху атомные бомбы! Как славно быть совсем простым ученым, доверием народа облеченным. Как славно быть совсем простым ученым, пока еще ни в чем не уличенным» – это к вопросу о том, что советская научная элита не сознавала моральной ответственности за свои труды. Всё она сознавала, и обвинения Солженицына в адрес образованцев, трудящихся в «ящиках», всё же не совсем справедливы: техническая интеллигенция диссидентствовала, пожалуй, еще и поактивнее гуманитарной.
Из Свердловска они с Ольгой на неделю уехали в Нижний Тагил, где остановились у Михаила Чевардина – друга и ровесника Шалвы Окуджавы, его заместителя в парткоме Уралвагонзавода в 1933 году. Там устроили вечер в малом зале Дворца вагоностроителей, но зал не вместил и половины желающих, так что пришлось переместиться в большой. Перед выступлением Окуджава сказал, что очень волновался перед поездкой в город детства и удивлен отсутствием здесь музея: люди завод строили, многие головы положили. В надежде найти какие-нибудь документы о деятельности отца он хотел поговорить с секретарем горкома партии, но попытки Чевардина устроить эту встречу закончились ничем. В записках на концерте его чаще всего спрашивали, почему он так долго не приезжал. Он отвечал: «Трудно было решиться». Зашел на неузнаваемую улицу Восьмого Марта. Пообещал Чевардиным прислать новую книжку, когда выйдет (и в октябре сдержал слово – прислал «Веселого барабанщика» с надписью «Дорогим Чевардиным в память былых встреч, в честь грядущих! С любовью, Булат»). Местным журналистам сказал, что собирается писать сценарий об отце – это, вероятно, и был будущий «Фотограф».
12 апреля они вернулись в Свердловск. Здесь с Окуджавой захотели встретиться члены местного Союза писателей и – что насторожило его гораздо больше – партийные активисты. Он не отказал ни тем ни другим. Как выяснилось, и писатели, и партийцы знали наизусть почти все его ранние сочинения. Встречаясь с партактивом, Окуджава спел не только «Сентиментальный марш», но и раннюю песню «Арбатские ребята», незадолго перед тем опубликованную в журнале «Молодая гвардия» – «О чем ты успел передумать, отец расстрелянный мой». Существует несколько трактовок этого лаконичного сочинения, полного, однако, многозначительных намеков. Преемственность здесь обозначается уже не только и не столько через верность революционной романтике, как в «Сентиментальном марше», – сколько через общность участи, и участь эта трагична: несопоставимы, конечно, судьбы Шалвы Окуджавы и его сына – об этом говорит внутренняя рифма «расстрелянный» – «растерянный»: «растерянный, но живой», подчеркивает Окуджава, вспоминая, как после очередной травли он «шагнул со сцены» (вариант – «шагнул с гитарой»).
Эта песня – еще и о коварной обманчивости той самой ночной Москвы, которая воспета в «Полночном троллейбусе» и в «Маленьком оркестрике»: «Как будто шагнул я со сцены в полночный московский уют, где старым арбатским ребятам бесплатно судьбу раздают». Все мы знаем – какую судьбу. «Арбатские ребята» интересно соотносятся с «Часовыми любви» – схожи они и ритмически, и мелодически: длинная строка, минорный лад, лейтмотив бессонных ночных стражей, проходящих через тихий город. Но если «Часовые любви» – это влюбленные пары, бодрствующие во славу своей вечной армии, то проходящие через город «грустные комиссары» – хранители памяти, и памяти грозной. Они идут через Москву не как ее защитники, но скорее как напоминание о старательно скрываемой трагедии, как призраки, которых предпочитают не видеть («По-моему, все распрекрасно, и нет для печали причин»). Никаких примирений не будет, ни одна рана не затянулась: «Пусть память – нелегкая служба, но всё повидала Москва, и старым арбатским ребятам смешны утешений слова». Вероятно, именно эта песня вдохновила Хуциева на пролог «Заставы Ильича», где по Москве шестидесятых проходит красноармейский патруль. Эта песня – одна из депрессивных, тягостных, уже в 1957 году обозначившая, что вера в благие преобразования оказалась поверхностной и временной; исполнял он ее редко, но встреча со свердловским партактивом – как раз тот случай.
 216
216