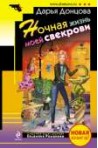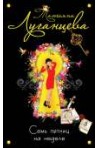4
4 
Должно быть, только с большой высоты – оттуда, где висел, пылясь в воздушной солнечной толще, маленький рекламный дирижабль, – можно было как-то понять и прочесть ту неуверенную кривую, что вычерчивало по городу их продвижение, – а они не понимали ничего. Они всего-навсего оказывались в том или ином, часто незнакомом месте. Так они попали на уличное кукольное представление, где тряпичные марионетки в условных, похожих на хлебные корки сапогах словно стремились сорваться с ниток согбенного артиста и немногочисленные зрители были поглощены не столько содержанием пьесы, сколько ходом этой борьбы. Их протащило сквозь маленький митинг, оглашавший окрестности маршевыми мегафонными стихами. Уводимые все больше под уклон, они постепенно приближались к городской реке с глубоким, как желудок, парковым прудом, где скапливалось и переваривалось все попавшее в реку добро, включая утопленников. Здесь, внизу, они забрели на пересеченную местность – свежие канавы с каменными ссадинами, старые серые откосы, сверкающие и скользкие от битого стекла. Здесь они не смогли по-прежнему двигаться одинаково и, размагнитившись, карабкались каждый на свой манер, благодаря чему незнакомка, смешно потоптавшись на пятачке, сбежала с кручи прямо в мужские неловкие объятия. Сразу же выпустив скользкие ребра, Крылов успел ощутить округлый вес подпрыгнувшего полушария и под ним, как в кармане, – дрожащее сердце размером с мышонка. Хрипло засмеявшись, женщина оправила перекрутившееся платье и поковыляла вперед по хрусткому гравию, блестевшему на солнце, будто водная гладь.
После, когда они уже втянулись в поставленный над собой (над судьбой?) эксперимент, Крылов пытался ответить себе на вопрос: что же, собственно, не отпустило его уйти своей дорогой с рокового вокзального крыльца? Ведь было так легко разбежаться, и ближе к вечеру он и не вспоминал бы случайную встречу и пил бы пиво в мастерской, вкушая блаженство полумрака, похожего после резкого рабочего света на ласковый мех. Однако вместо того чтобы идти и делать важный заказ, Крылов, как старшеклассник, гулял по городу с блеклой красавицей, вызывавшей у него в душе какой-то щекотный сквозняк.
Вероятно, причина была в необычном возбуждении, в перемене участи, что ожидала Крылова в случае успеха экспедиции. Что были ему эти агатовые кабошоны, ассорти из бракованного камня для нужд лотошной ювелирки, что значили средние деньги, причитавшиеся ему, серьезному мастеру, за работу чуть ли не пуговичного автомата? Много месяцев он жил с ощущением непонятного голода, неразборчиво утоляя его резиновыми сосисками и обсыпанными приторной солью жирными орешками. Но голод был не пищевого свойства: стоило желудку наполниться и отяжелеть, как сердце, сжимаясь, заявляло о своей пустоте. По ночам постель Крылова была усыпана крошками, словно песком расстилавшейся вокруг пустыни. В повседневности образовалась дыра, которую каждый день следовало чем-то заполнять. В мечтах Крылову рисовались большие деньги – такие большие, что срок их действия простирался далеко за пределы жизни, помещая обладателя в своего рода обеспеченную вечность. Но вышло так, что получил он от жизни совсем другое. Как и почему произошла подмена, ни Крылов, ни женщина просто не поняли.
Пустившись пешком от вокзала, они в этот день бродили по улицам точно приезжие. Голод и безымянность сообщали особенную легкость их общей, все более согласованной походке, держаться вместе выходило все лучше и лучше. В открытом парковом кафе, куда Крылов со спутницей все же забрели перекусить, на красных пластмассовых столиках выгорало воскресное меню, хотя по календарю была несомненная среда. Но в ленивом парке стояло вечное воскресенье, по пруду, словно маслом намазанному светом, плавал в своей волне, точно на блюде, тусклый белый лебедь, в тире пощелкивало, похлестывало выстрелами, вдалеке крутились карусели с редкими седоками – или с куклами, пущенными покататься для рекламы, – и на шее у женщины солнечное пятно, трепеща, присосалось к жилке, будто мультипликационный сказочный вампир. Расслабившись на бледном припеке, слегка прогревшем шаткую пластмассу, незнакомка сообщила наконец, что ее зовут «допустим, Таня». Имя было ненастоящее, это чувствовалось по легкой заминке самоуверенного голоса. Принимая игру, Крылов отрекомендовался «Иваном», на что свеженазванная «Таня» тонко усмехнулась, отпивая из одноразового зыбкого стаканчика синтетический сок.
 4
4