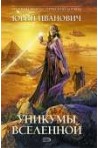50
50 
– Поможем, папаша? – обратился ко мне носильщик, сам уже далеко не первой молодости. Я бодро улыбнулся, но на самом-то деле было мне тяжко. Силы уже не те.
С грехом пополам дотащил я вещи до камеры хранения, потом уточнил расписание – поезд на Ряжск отправляется завтра в полдень. Налегке я отправился в город и долго плутал по каким-то безлюдным перекопанным для прокладки теплофикационных труб улицам. Улиц этих я не узнавал, и тихая, чуть ли не секретная их жизнь была мне чужда.
Неожиданно я вышел на широкий, ярко освещенный проспект, по которому катили троллейбусы и такси и где стояли высокие дома. Двигаясь вдоль этого совсем уже мне незнакомого проспекта, я дошел до какой-то большой гостиницы. Конечно, у входа висело солидное, золотом по черному, стационарное объявление: «Свободных мест нет». Пришлось мне воспользоваться документом – персональной книжкой старого большевика. Администраторша полистала мой документ, выглянула в окошечко и сказала:
– Прошу, гражданин, обождать: у меня вон люди из «ящиков» еще не устроены.
В креслах сидели четверо «из ящиков», мужчины в серых костюмах. Так или иначе, но койку в двухместном номере я получил и был очень доволен, потому что не рассчитывал на такой успех. В коридоре подвыпивший человек остановил меня:
– Папаша, зуб болит. Где врача найти?
– Не знаю, дорогой, – сказал я.
– Сам-то русский или из ГДР? – спросил он.
– Русский, – сказал я, – рязанский уроженец.
– Да-а, – протянул он задумчиво, – а зуб-то болит. Придется в милицию обратиться.
Мы разошлись.
Ничто в этой гостинице не напоминало мне той милой моей Рязани, где когда-то «на заре туманной юности» изучил я основы политграмоты и получил военную подготовку. Гостиница была как гостиница, а в окна с улицы глядели безликие и безучастные неоновые вывески.
За ужином в ресторане я развеселился. Поразило меня меню. В разделе холодных закусок значились почти подряд такие блюда: салат из морской капусты, морской гребешок, салат «Дары моря». Континентальный этот город, видно, имел некую таинственную связь с Тихим океаном.
Утром я вышел на балкон и посмотрел вниз на проспект. По тротуарам торопливо сновали домохозяйки со связками длинных и странных, явно морских рыб.
Я поймал себя на том, что хихикаю, как турист, как столичный ферт, над провинциальными чудачествами незнакомого города. Еще раз я окинул взглядом ровную линию пятиэтажных домов и тут заметил в их ряду старую облупленную часовенку, в которой ныне помещалось, кажется, городское бюро справок.
Мимо этой часовенки бежали мы, щелкая затворами, мимо нее и мимо лабазов, мимо колониальной лавки Скворцова и Ко, мимо синематографа «Эльдорадо»; бежало нас двадцать человек. В тот день мы вооружились по тревоге после сообщения о том, что нашего человека Ваньку Комарова арестовал на митинге проэсеровски настроенный полк.
Я помню застывшую на бесснежном морозе грязь, тучки пыли, поднятой ледяным ветром, огромную площадь перед нами, вымощенную булыжником, и в конце площади плотную толпу шинелей – эсеровский полк.
«Тут тебе и конец придет, Павлушка», – думал я на бегу. Обошлось. Переорали, перематерили мы эсеровских агитаторов.
4
Утренний поезд на Ряжск был составлен из старых зеленых вагонов с узкими окнами. В вагонах было почти пусто – в моем сидели лишь три крестьянки в плюшевых черных жакетах. Они оживленно переговаривались. Впервые за все время своего путешествия я услышал подлинный рязанский глубинный напев их речи.
– Надысь я иду, а в тележке у яго тра-ава-а, – рассказывала про какой-то случай одна из них.
Это «х» или «г» было легким, мягким и теплым, словно летящий пух, словно чуть шершавое поглаживание матушкиных рук.
Я вспомнил покойницу, как растерялась она, маленькая старушка в нарядной своей понёве, на вокзале того города, где я верховодил в тридцатые, как отказывалась сесть в мой «форд» – «Я в эту тяжелку не сяду», как вечером в нашей большой квартире изрекла она мне конфиденциально: «Высоко ты забрался, Павлушка, а выше-то больней падать».
К концу войны сестра написала мне в лагерь, что матери у нас больше нет, что в сорок втором году, в голодуху и осеннюю темень, пошла она во двор, в уборную, сломала ногу и на другой день скончалась. А до конца войны ограничен я был в переписке.
 50
50