Худой грязный человек с длинными сальными волосами шел впереди двух господ в полумасках. Их богатая одежда не вязалась с внутренностью тюрьмы Аннона и была явно не приспособлена для того, чтобы перелезать через мокрые и вонючие стенки из туфа, которые все чаще попадались в недрах холма Кампидольо.
— Мы перешли Рубикон, — вполголоса сказал Джованни, обращаясь к Ферруччо.
Тюремщик про себя проклинал капитана стражи, который приказал ему проводить двух странных посетителей в подземные казематы. Рядом с камерами осужденных на казнь содержались узники, ожидающие суда. Он получил приказ сдать им на руки человека, на которого они укажут. В его кармане уже угнездился серебряный карлино, которого хватит на хорошую выпивку и на женщину, но тюремщик заметил, что из кошелька одного из господ в руки капитана стражи перешло нечто, сверкнувшее золотом. Они вошли в комнату с неровным потолком, разделенную надвое железной решеткой, и ощутили ужасающее зловоние. Пахло экскрементами, кровью и смертью. Кто-то тихо стонал, словно надеясь, что его услышат. Тюремщик ухмыльнулся, открыл дверь и поманил за собой посетителей.
Не доверяя ему ни на грош, Ферруччо схватил его за руку, втащил за собой, прижал к стенке и прошипел:
— Сдвинешься с места — перережу глотку! Тогда эти люди смогут тобой закусить.
Помещение освещали два факела. От их чада воздух, и без того спертый, был просто невыносим. Никто не обратил внимания на их появление. Джованни принялся оглядывать эти подобия людей, силясь хоть в ком-то из них узнать черты друга. Многие лежали вповалку. Один из тех, кого Пико попытался перевернуть, был уже мертв. Только человек, сидевший посередине комнаты на куче свежей соломы, выказал к ним какой-то интерес. Он был крепко сбит. Свет факелов отражался в его бритом черепе.
Ферруччо взял тюремщика за руку и спросил:
— Кто это?
— Он требует называть себя королем. Он тут не первый год, и никто, даже судьи, ни разу за ним не явился.
— Подведи меня к нему.
— Ты что, с ума сошел? Он же меня пополам разорвет.
Ферруччо оттолкнул его обратно к стене и, перешагивая через тела, решительно подошел к тому, кто называл себя королем.
— Мне сказали, ты король. Можешь оказать мне милость?
— Зависит от того, что ты предложишь взамен.
Голос его звучал бесстрастно.
— У меня есть золото.
— Здесь оно не имеет ценности.
— Тогда скажи, что ты хочешь.
Король жестом подозвал Ферруччо к себе и что-то шепнул ему на ухо.
— Хорошо, если ты мне сразу найдешь человека, которого я ищу. Он поэт, его зовут Джироламо.
— А, содомит!
Двое парней поблизости от них хихикнули.
Король схватил одного из них за челюсть.
— Иди приведи его.
Через несколько мгновений парень вернулся, таща за руку трясущегося старика с потухшими глазами, поманил рукой Джованни, и тот подошел. Старик широко раскрыл глаза и заплакал. Джованни укрыл его своим плащом.
— Все позади, Джироламо, все позади.
— Теперь выполняй обещание, — сказал король.
Ферруччо подошел к тюремщику и приставил ему к горлу кинжал. Двое парней заткнули ему рот и потащили к королю. Тюремщик брыкался и вырывался.
Ферруччо, Джованни и Джироламо уже были у двери и не слышали, как король, гладя тюремщика по голове, нежно шептал ему:
— Я так долго ждал этой минуты. Нынче ночью ты станешь моей королевой.
~~~
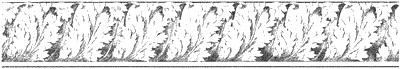
Рим
Четверг, 11 апреля 1487 г.
Джироламо Бенивьени еще окончательно не оправился. Он снова набрал вес, на лицо вернулся румянец, но основные элементы бытия — вода, земля, огонь и воздух — пока не пришли в нем в прежнее согласие и конфликтовали друг с другом. Настроение и поведение поэта определялось черной желчью, и он часто впадал в состояние пассивной меланхолии, но порой, под воздействием выброса желтой желчи, нападал на своего спасителя и друга Джованни Пико, обвиняя его во всех своих бедах. Эти вспышки гнева обычно заканчивались извержением фекалий, после чего больной, естественно, впадал в печальное состояние духа и в слезах начинал просить прощения за все, что наговорил. Для ускорения выздоровления лекари прибегали к очистительным кровопусканиям и клистирам.
— Если бы я мог вызвать сюда Элиа дель Медиго, уверен, Джироламо быстро поправился бы.
— Если дель Медиго уедет из Флоренции, Борджа хватит одного дня, чтобы сжечь его книги, и еще пары, чтобы изжарить на костре его самого.
— Знаю, Ферруччо, потому его и не вызываю. Но меня тревожит состояние разума Джироламо. Он переменился, он уже не такой, как прежде. Меня очень беспокоят эти припадки гнева!.. Порой мне кажется, что он вправе обвинять меня в том, что с ним случилось.
— А меня больше волнует, как мы повезем его во Флоренцию. Власти узнают, что он бежал, начнут разыскивать его и сообщников и подумают прежде всего о некоем графе. Почему бы тебе не уехать, Джованни?
— Маргерита.
— Маргерита. Опять она. Тут я бессилен давать тебе советы.
— Если позволишь, я могу дать совет, — вмешалась Леонора.
— Не думаю, чтобы ему хотелось выслушивать рекомендации, — улыбнулся Ферруччо. — Почему ты думаешь, что она еще в Риме? Маргерита могла вернуться в Ареццо. Ведь там ее дом.
Джованни с улыбкой достал письмо и прочел вслух:
— «Прощайте. Сохраните почтение ко мне и к моему мужу. Пока я жива, я дала Господу обет хранить верность супругу. А потому поклянитесь не искать меня более».
— И ты будешь ее искать? Но это безумие. Она просит оставить ее в покое.
— Наоборот, она пишет, что будет в Риме до самого мая, и ждет меня.
Ферруччо и Леонора удивленно переглянулись.
— Некоторые буквы написаны с большим нажимом. Если их сложить, то получится: «В Риме до мая». Поэтому я сюда и приехал. Она знает наш шифр. Первое воскресенье — в церкви возле Святого Петра, второе — в следующей и так далее.
— В это воскресенье Пасха.
— Тем лучше. Церкви будут переполнены, к тому же принято обходить их одну за другой, как можно больше. В таком виде меня никто не узнает, даже она. Ферруччо, клянусь, если Маргерита согласится уехать со мной, я сделаю все, что захочешь. Даже откажусь защищать свои тезисы перед Папой.
— Ты и так должен отказаться. Какой смысл защищать «Девятьсот тезисов», если ты хочешь распространить вовсе не их? Для тебя ведь важнее другие, те, что содержат истину о Великой Матери.
Граф сначала кивнул, потом отрицательно покачал головой. Де Мола не понял и заволновался.
— Попытаюсь объяснить, Ферруччо, и будь ко мне снисходителен. Если я спрошу у военного человека, ну, к примеру, у тебя, слышал ли он когда-нибудь о китайце по имени У Ци, что тот мне ответит?
— Я скажу, что ничего о нем не знаю.
Ферруччо надкусил яблоко и приготовился терпеливо слушать. Другу нравилось делиться с ним своими знаниями. У него можно было многому научиться.
— Этот У Ци был китайский генерал и жил две тысячи лет назад. Он написал важнейший трактат о военном искусстве под названием «У-цзы», то бишь «Законы войны почтенного У», где говорилось о том, что противостояние и соперничество никогда не следует разрешать военными методами.
— Даже китаец знает, а я не должен удивляться.
— Горе тому, кто много знает, Ферруччо. Мне порой хочется знать поменьше.
— Прости, я был несправедлив. Давай дальше, прошу тебя. Хотя это странные слова в устах полководца, генерала.
— Верно, но мне кажется, что У Ци был очень мудрым человеком. Он считал также, что стратегия гораздо важнее самого сражения и что военные принципы могут быть применены в повседневной жизни.
— А вот это уже интересно.
— Если я позволю сейчас безнаказанно осудить свои «Девятьсот тезисов», то сразу же последует безоговорочное признание моей вины. Тогда мне вряд ли удастся представить следующие девяносто девять, наиболее, как ты говоришь, интересные для меня.

