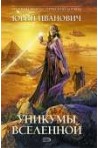Хохха вливала в него громадную энергию; по утрам, являясь своим придворным и приближенным, он поражал их нечеловеческим зарядом сил, порабощающим, пугающим, сковывающим их.
С годами он стал погружаться реже, подзаряжался все меньше; к тому же двойная игра изнуряла его: ему, вечному гостю демонических сил, постоянно приходилось изображать материалиста, марксиста. Из существа неопределенного возраста за три года он превратился в старика.
Но в 30-е годы, между пятидесятилетием и шестидесятилетием, он ощущал себя вечным, как раскрывающиеся ему пучины, наполненные сонмами темных играющих существ, являвшихся ему в преддверии рассвета.
Квазипрозрения его, мрачные фантазии, возникающие в мозгу его при прохождении виртуальной толщи между миром и антимиром, были сильнее реальности, походили на художественные картины, на произведения — поначалу нематериальные — некоего искусства, напоминавшие фильм одного режиссера для одного зрителя, причем режиссер и зритель являлись его личными паритетными сиюминутными аватарами. Затем он материализовал явленные его внутреннему взору кинокадры; результатами выводов из его не существующего для остального мира кино были массовые убийства., вспышки террора, являвшиеся в данном случае вариантом самовыражения: он хорошо помнил, кто он был в Батуме — Сосо-террорист, соперник Камо; не был бы ты мой соперник, кацо Камо, был бы ты жив.
Как-то раз взлетающие с ним вверх, в людской мир, четыре даймонида с увеличенными, окрашенными в серый цвет лицами человеческих покойников с зашитыми веками выпустили его из когтей своих. Он полетел вниз в раскрывавшееся навстречу ему циклопическое дымно-чугунное бездонное ущелье, напоминавшее преувеличенные гекатомбы, копирующие маленькие провалы живописных ущелий Кавказа, инопланетные дарьялы. Скорость нарастала, гул и звон раздирали слух, сердце взмывало вверх с точечной нестерпимой болью. Даймониды смеялись, хохот их подхватывало эхо, мечущееся в свинцово-серых затуманенных глыбах, наливавшихся мглою по мере его падения:
— Хо-хо-хо-хо (хха-хха-хха-хха)!!!!
Он пролетал брамфатуру слой за слоем, весь шаданакар, минуя шельт, шрастры, эгрегоры, слои антикосмоса. Он пролетал Шог, Дигм, Гашшарву, Суфэтх. В какой-то момент вдали, неведомой оптикой приближенное к зрачкам, возникло изображение невыносимого света: другой полумир, близкий к тому, что именовали люди Раем; и там взлетали несколько фигур, окруженные, точно птицами, шумнокрылыми ангелами. Ясно, как в кинозале, видел он двух совершенно одинаковых стариков, белобородых, в мерцающих визионерски белых рубашках; оскоминой ненависти свело ему на лету губы. Он падал камнем на Дно Безвременья, полумертвый; зрачки его сужались в щели. Его начало крутить, он сорвался было в штопор, но тут даймониды подхватили его и, помедлив в стоп-кадре (он успел разглядеть струящиеся в трещине одной из глыб роящиеся капли и ветвящиеся ручейки ртути), повлекли его ввысь.
Дрожащие его пальцы, вцепившиеся в подлокотники кремлевского кресла, сводило. Перед ним поплыли сонные видения, черные фантазии полусна на грани выхода из хоххи.
«Заговор… старик… заговор… ты раздвоился… чтобы успешнее ославить Меня… потом твои двойники раздвоятся… вас будет много… вы направитесь всей шоблой к засранцам-иностранцам срамить величие мое… ваша проклятая рать помешает моим северным войскам… вы станете препятствовать мне повелевать толпами рабов… не бывать тому… уничтожу…»
Его трясло, он мочился, желтая пена пузырилась на губах. Он вернулся.
Не в силах встать, он сидел, глядя в окно на омытые розовой пряничной московской зарею магические рубиновые пентакли кремлевских башен. В одну из ночей, выйдя из хоххи раньше обычного, он глядел на наливающиеся артериальным свечением пентакли слишком пристально и долго, его разобрала зависть к древним обрядам заклятий; тогда он позвонил Молотову, разбудив его в четвертом часу утра, и велел немедленно принести в кабинет вождя черного петуха. «И ведь принес!» — он зашелся мелким беззвучным хохотом. Встав, он пошел переодеваться, с омерзением стянув мокрые галифе и кальсоны. В его платяных шкафах, где бы ни жил он, во всех апартаментах всех дач, Барвиха ли, Форос ли, висели множества одинаковых френчей и галифе.
Переодевшись, он раскурил одну из трубок здешнего мира, и, пустив клуб синего нездешнего дыма (его передернуло при воспоминании об ущелье), произнес он вслух, преувеличивая грузинский акцент:
— Ннэ дадим акадэмику Петрову увести советскую науку со столбовой дороги собствэнного учэния.
«Нет, это надо же: построить в городке науки, созданном по образу и подобию городишек вонючей Англии на го-су-дар-ствен-ные, мною данные деньги перед главной ла-бо-ра-то-ри-ей, — слово это плохо давалось ему, каждый раз договаривал он его с легкой испариной, — поставить бюсты буржуазного философа Декарта и хренова генетика, еврея, монаха Менделя! Генетикой, видите ли, господин ученый решил заняться. Яблоко, видите ли, от яблони недалёко… недалеко… падает. А вокруг бюстов по поговорке назло мне посажены яблоневые сады. Помни, дескать, чье ты отродье. Будут вам яблоки от яблони, сучье племя. Сын — белоэмигрант, невестка — финская шпионка».
Смех даймонидов на секунду зазвучал в его ушах. Он снял трубку, набрал номер.
— Надеюсь, не разбудил? Жду тебя у себя, химик-алхимик. Ты мне обещал предоставить устный отчет о противоядиях. Приходи, как всегда, с мышками, когда показываешь на мышках, я лучше понимаю. Комплименты о моем понимании оставь при себе.
Прервав собеседника на полуслове, он положил трубку. Когда ему надоедало преувеличивать грузинский акцент, он начинал говорить с еврейским, сначала рассказывая еврейские анекдоты, потом не снимая акцента в обычном разговоре. Одно из его квазипрозрений посвящено было заговору евреев, желающих заменить его на двойника, собственного ставленника; в то утро он вернулся из мистических прорв оголтелым антисемитом, всемирный и всесоюзный интернационалист в военном френче.
На своей любимой лужайке Савельев производил смотр приведенным помрежем кандидатам на роли Сталина просто, вождя народов в состоянии хохха. Coco из Батума и мальчика из грузинского селения. Небольшая толпа разновозрастных двойников и близнецов переминалась, прохаживалась, поворачиваясь то в фас, то в профиль, перед восседающим в легком складном кресле режиссером. Многим гримерша успела приклеить одинаковые усы.
— Глаза бы не глядели, — полушепотом сказал Вельтман, — сколько их, куда их гонят.
Тхоржевский снимал фотопробы и кинопробы. В разгар действа из-за сиреневого куста, цветущего вечным, невянущим (но чуть выгорающим) бутафорским цветом, выступил Нечипоренко в соломенной шляпе, косоворотке и сандалиях на босу ногу, принесший целую охапку фотопортретов на дощечках, прибитых к длинным палкам вроде ручек от грабель. Слегка качаясь, ни на кого не глядя, принялся он вколачивать в землю жердины и целый фрагмент изгороди перед кустом соорудил. Тхоржевский прекратил снимать, Савельев — командовать, актеры — играть в генералиссимуса, гримерша — гримировать; Катриона чуть не свалилась с вяза. Приосанившись, Нечипоренко встал перед чередой портретов, вытянул руку и произнес нарочито громко и внятно:
— Поглядите на этих людей! Загляните в их лица! Какой в их лицах свет! Таких людей больше не будет! Их растащат по лагерям, этапам, тюрьмам и выселкам, вытеснят особо удачливых за границу, аж в Бразилию, Чили и на Аляску, их заморят блокадами военных и мирных времен, их будут травить войнами и террором, бытом, бедностью, радиогазетным враньем, чиновничьим и судейским произволом; наконец время победит их, они лягут в обесточенную, опозоренную, выродившуюся землю, прах иных сожгут в языческих колумбариях-крематориях, дым в тучи уйдет, пепел падет с дождем на тупоголовых потомков. Да, да, и на ваши, и на наши, в том числе и на мою! Вы, нынешние, ну-тка! Глядите в светлые лица их! После них пойдут другие, вонь толченая, мечтатели бесплодные, чурки с улыбками животных, тараканы коммунальные, пустота пустот! Глядите на них! На известных и безвестных! Горюйте! Радуйтесь! Последующее племя младое, незнакомое оболжет их не единожды, постарается предать их забвению, сочинит о них байки, подспудно ненавидя их за то, что они — последние люди России перед последующим поголовьем незнамо кого; могилы их сровняют с землей, на земле той разобьют хилые скверы, камни надгробные пойдут под фундаменты и поребрики мостовых, могильные чугунные кресты и ограды сдадут в металлолом. Запомните их! Этого достаточно.