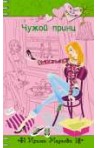Как только попадается первый монастырь, ты неловко пытаешься перекреститься. В третьем монастыре, уже после четвёртой бутылки коньяка, Давид с трудом удерживается от хохота: ты стоишь на коленях, в глазах — слезы, ты громко объясняешься с высокими ликами святых, изображённых на стенах. Накалённый до предела величественными пейзажами, красотой архитектуры и огромным количеством выпитого вина, ты на четвереньках вползаешь в церковь. Ты издаёшь непонятные звуки, бьёшься головой о каменные плиты пола. Спьяну ты ударился в религию. Потом вдруг, устав от такого количества разных переживаний, ты засыпаешь как убитый, распластавшись на полу.
Это единственный раз на моей памяти, когда твоё критическое отношение к театральности православной церкви тебе изменяет. Позже, рассказывая мне эту историю, ты заключаешь:
— Заставь дурака богу молиться — он и лоб расшибёт.
У тебя два сына от второго брака — Аркадий и Никита. Когда я с ними знакомлюсь, им примерно шесть и семь лет. Я удивлена твоим резким нежеланием говорить о них. Я прошу тебя познакомить нас, но ты говоришь, что твоя бывшая жена не хочет, чтобы её дети встречались с иностранкой, да и ваши отношения натянуты. Я чувствую, что здесь потребуется много терпения. Мне бы очень хотелось иметь возможность общаться с твоими сыновьями — я вижу, что ты и сам мучаешься от всего этого. И потом, мои трое мальчиков приезжают к нам на каникулы, ты их очень любишь, но жалеешь, наверное, что твои собственные дети не с нами.
Мой младший сын, которого тоже зовут Владимир, с первых же минут знакомства загорается пламенной дружбой к тебе. Он, как маленький зверёк, все время жмётся к твоим ногам, рассказывает тебе бесконечные истории на языке, понятном только вам двоим, постоянно повторяет твоё имя: Володя, Володя. Однажды, как раз накануне приезда в Москву, он сломал руку, и мы ведём его к врачу, потому что он жалуется на сильные боли. Оказывается, спицы, вставленные в кость мясником-хирургом, внесли заражение. Значит, надо положить его в больницу. Нам жалко на него смотреть, потому что, не говоря по-русски, он совершенно теряется среди детей в палате. Ты договариваешься с хирургом, чтобы его положили отдельно. Таким образом, мы можем посменно дежурить возле него. Взамен ты даёшь небольшой концерт для медсестёр, врачей и всех больных детей. Владимир гордится тобой, и его пребывание в больнице становится приятным до такой степени, что однажды, оставив его в слезах, мы буквально через несколько минут видим, как он организует футбольный матч в коридоре, бьёт ногой по резиновым игрушкам, возбуждая оперированных малышей, которые прямо с капельницами вылезают из палат посмотреть, — одним словом, устраивает полную неразбериху на этаже, где отныне ему все позволено.
Твои отношения с двумя другими моими сыновьями, Игорем и Петей, походят скорее на сообщничество. Самый красноречивый эпизод происходит однажды, когда, вернувшись домой, чтобы переодеться для вечера, я нахожу своих мальчиков очень занятыми импровизацией ужина, который должен был приготовить им ты, — в то время мы живём одни, твоя мать в отпуске на море.
Они говорят мне, что ты ненадолго отлучился, но подъедешь попозже. Тогда я беру такси, потому что машина у тебя — «Рено-16», которую я привезла из Парижа и на которой ты научился водить, — и отправляюсь на званый вечер одна. Ты приезжаешь гораздо позже, в бледно-жёлтом свитере, с мокрыми волосами и чересчур беспечным видом. Заинтригованная, я спрашиваю тебя, где ты был. Ты говоришь, что объяснишь потом. Я не настаиваю. Вечер проходит, симпатичный и тёплый, но ты отказываешься петь, ссылаясь на хрипоту, чего я раньше никогда за тобой не замечала… Я буквально теряюсь в догадках. Мы выходим, и, когда наконец остаёмся одни, ты рассказываешь, что из-за какого-то наглого автобуса потерял управление машиной, вылетел через ветровое стекло, вернулся домой в крови, мои сыновья заставили тебя пойти к врачу, машина стоит в переулке за домом немного помятая, но что касается тебя — все в полном порядке! И чтобы успокоить меня, ты быстро отбиваешь на тротуаре чечётку.
Только вернувшись домой, я понимаю всю серьёзность этой аварии: весь перед смят, машины больше нет. Твоя голова, на которой прилизанные волосы закрывают раны, зашита в трех местах двадцатью семью швами. Правый локоть у тебя распух, обе коленки похожи на спелые баклажаны.
Мои два мальчика не спали, чтобы присутствовать при нашем возвращении. Они потрясены твоей выдержкой. Особенно они гордятся тем, что не выдали вашей общей тайны. Соучастниками вы останетесь до конца. Став взрослыми, они будут лучшими твоими адвокатами передо мной и, как в этот вечер семьдесят первого года, всегда будут защищать своего друга Володю ото всех и наперекор всему.
В начале нашей совместной жизни ты мечтал о ребёнке Рождение-двух сыновей, навязанное хитростями твоей жены, которая сообщала тебе об этом лишь тогда, когда уже было поздно что-либо предпринимать, привело тебя в отчаяние. Я же просто запрограммировала рождение сыновей, почти что день в день, я боролась во Франции за право супружеских пар иметь желанных, а не случайных детей и никогда не соглашалась родить ребёнка — заложника нашей жизни. Наше положение, и без того трудное, было бы совершенно невыносимым, если бы между нами было маленькое существо. Он был бы не связью, а препятствием, он воплотил бы в своём существовании все противоречия, которыми мы болели.
Мотаясь между Востоком и Западом, он никогда не смог бы найти своих настоящих корней. Надо сказать, что семья твоей бывшей жены долгие годы внушала тебе, что нервная болезнь, которой тогда страдал твой старший сын, есть следствие твоего алкоголизма. Но даже когда выяснилось, что это не так, тебе не удалось уговорить меня. Достаточно было нас двоих, чтобы тащить на себе проблемы нашей семьи, и конец нашей с тобой истории подтвердил правильность моего отказа. Остаться без отца в тринадцать лет было для меня раной, от которой я больше всего страдала в жизни.
Ребёнку, о котором ты мечтал, могло бы быть от одиннадцати до года в июле восьмидесятого.
В холле гостиницы «Европейская» в Ленинграде возвышается расшитый золотом портье. Всюду — остатки былой роскоши красные ковры, хрустальные люстры, бронза, изуродованная электрическими лампочками, рассеивающими желтоватый свет. И к сожалению, по всей гостинице — неоны, ослепляющие и мрачные, режут глаз на фоне остального великолепия В довершение картины то здесь, то там попадается чуть ли не кухонная мебель с пластиковым покрытием. Зато вдруг увидишь иногда какое-нибудь очень красивое трюмо, обычно — в стиле ампир, дающее представление о том, чем была эта гостиница в своё время. Мы с удовольствием останавливаемся здесь. В гостинице хорошая кухня, и потом — она очень удачно расположена: в самом центре города, совсем рядом со Смольным. Здесь у нас много друзей — писателей, композиторов, художников. Мы проводим нескончаемые белые ночи в прогулках по проспектам, огибающим роскошные дворцы. Мы подолгу останавливаемся перед Адмиралтейством, где заседал некогда мой прадед — адмирал Балтийского флота. Тебе не надоедают мои рассказы, ты гордишься тем, что мои корни так глубоко уходят в русскую землю, твои друзья тоже слушают с интересом. В заключение я нарочно спрашиваю их, не является ли случайно партийный секретарь Ленинграда товарищ Романов потомком императорской семьи? Он — твой заклятый враг, он питает к тебе личную ненависть, которая всегда отравляла тебе выступления в Ленинграде или в Ленинградской области, даже когда ты приезжал на гастроли с театром. Я слышала много отзывов о Романове — и право же, редко кого так разделывали в пух и прах, как этого товарища. Говорят, что фамилия стоила ему поста Генерального секретаря, которого он упорно домогался. Я не могла не улыбнуться, узнав о том, что его прокатили.
С течением лет гостиница «Европейская» утратила своё спокойствие из-за нашествия финнов. Целыми автобусами они пересекают границу и буквально захватывают город.